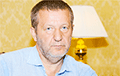Светлана Алексиевич: В Беларуси я живу в состоянии заговора молчания
22- 24.12.2015, 10:09
- 29,725

Фото: Reuters
Но у людей исчезает чувство страха.
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в интервью BBC рассказала о своём жанре романа голосов, о том, почему Россия вновь предпочитает несвободу свободе, и о том, несет ли свою часть вины за это Запад.
- Прошло уже некоторое время с тех пор, как вам присудили Нобелевскую премию. Каковы ваши ощущения сейчас?
- Я бы могла сказать, что ощущения с самого начала были такие, рабочие: что надо и дальше работать, думать и работать. В моей жизни уже почти месяц - сплошные интервью, сплошные встречи. Так что пока работать не получается – в таком прямом смысле. Но я имею в виду думать и работать. У меня есть новые идеи, новые две книги лежат на столе, – я это имела в виду!
Премия – это конечно праздник. Тем более такая премия – это большой праздник! Но главное в жизни не меняется, - все равно остаешься с новой книгой перед белым листом в той же растерянности, в думанье, как же это сейчас сделать, потому что неинтересно делать то, что ты уже умеешь делать...
- А у вас возникло чувство большей ответственности, поскольку всё, что вы теперь пишете и делаете, привлекает гораздо больше внимания?
- Я уже это почувствовала, конечно. Нельзя больше так легко и небрежно говорить о каких-то вещах. Надо продумывать больше каких-то мыслей. Потому что люди обращаются ко мне. В то же время, нельзя становиться какой-то службой добрых услуг и без конца раздавать интервью и высказывать своё мнение, поскольку моё дело – это писательство.
- Но если вам приходится осторожнее писать о чем-то, означает ли это, что Нобелевская премия повлияла на то, как вы пишете?
- Нет-нет, я имела в виду общественную позицию. Писательство – это совершенно отдельно, и тут я неизменна: как бы есть мой путь, и я иду этим путём. А говоря об ответственности, я имела в виду общественную позицию, поскольку сегодня эта роль увеличилась. Это особенно правда для Беларуси, которая сейчас в очень сложной ситуации.
- Принимая во внимание особенности вашего стиля, насколько велика разница между тем, что вы пишете, и вашей общественной позицией? Или ваше творчество и является проявлением общественной позиции?
- Я не представляю, какая может быть разница. У меня есть общая гуманитарная позиция, либеральная позиция, если говорить о конкретных вещах, которые происходят у нас, - и есть мое писательство – тоже с системой каких-то идей, представлений. Я думаю, как человек я цельна. Я не думаю, что там – одно, а здесь – другое. Оно всё входит в некий общегуманитарный такой взгляд.
- Вы в душе все еще чувствуете себя журналистом?
- Тот жанр, которым я занимаюсь, он очень сложный. С одной стороны, я достаю, добываю и разыскиваю материал как журналист. Я могу сказать о себе: если Флобер говорил о себе, что он – человек-перо, то я могу сказать, что я – человек-ухо: я все время слушаю. Не только тогда, когда записываю человека и разговариваю с ним, но и тогда, когда где-нибудь в кафе, еду в такси, просто иду по улице. То есть ухо все время на улице.
Я все время слушаю. Тут я как журналист всегда. А просто потом, когда я уже работаю над материалом, осмысливаю его, делаю его, то делаю это как литератор. Жанр осень сложный. Он требует много разных качеств, а журналистская работа мне всегда нравилась.
- Почему вы избрали для себя этот полифонический стиль? Вам кажется, что он лучше отображает действительность?
- Я в детстве выросла в деревне. Не так много лет прошло после войны, и эта деревня была в основном женской, поскольку мужчины погибли в партизанах или на фронте. И я помню, как женщины по вечерам собирались и разговаривали – о войне, вообще о жизни и о любви. Я узнала больше от этих женщин на этих лавочках, чем из книг. Книги были бледнее того, что я слышала. Потом, когда я долго после факультета журналистики искала себя, то я пробовала разные жанры.
Но стало очевидно для меня – так устроен мой глаз, моё ухо, что для меня правда не умещается в одно сердце, в один ум. Я поняла, что правда – она такая неуловимая, таинственная вещь, она рассыпана – в каждом человеке кусочек этой правды, кусочек истории. Жизнь наша очень убыстрилась. И поэтому роман голосов мне показалось – та форма, которая, по моим ощущениям, может передать тот мир, который окружает нас.
- Вы считаете, что существует коллективная правда, коллективная действительность?
- Ну, я думаю, что есть правда как бы времени, которую принято считать правдой. Но это тоже относительно: одно принято считать правдой в России, другое принято считать правдой в Америке или Англии. Люди все-таки с одной стороны разделены, а с другой стороны есть некая правда времени. И есть правда человека – его личная правда, его маленькая история. И вот из всего этого появляется большая история.
- Среди Нобелевских лауреатов очень немного писателей, которые не специализируются на художественной литературе. Еще одним таким писателем был Уинстон Черчилль. Считаете ли вы, что проложили путь писателям-документалистам?
- Я думаю, что это новаторское решение жюри Шведской академии, что, наверное, обрадовало многих журналистов и меня прежде всего, – что они услышали время, что время требует новых форм, что старые формы уже не вмещают того, что происходит. У нас уже нет времени медленно и долго, как Лев Толстой, сидеть и осмысливать события. Все просто наслаивается одно на другое.
Для меня это радостная вещь, - не только как личный успех, но и то, что мой взгляд на мир, на то, как его передать, как его отразить, нашел такую поддержку. И я думаю, что это поможет многим людям пойти еще дальше, сделать вещи, которые будут более точны во времени, потому что время движется, а вместе с ним движется его отображение – движется литература, движется документ. Но это очень сильное решение жюри.
- Расскажите, почему вы решили вернуться в Минск. Как легко вам там работать?
- Вы знаете, в Беларуси я живу в состоянии как бы заговора молчания. Обо мне не пишет официальная пресса, телевидение – меня как бы нет. Но поскольку у нас нет границ с Россией, там мои книги выходят, вся русская пресса доступна в Беларуси. Поэтому у меня нет ощущения, что я отделена от своего читателя, от своего зрителя. Я делаю то, что я могу желать, мне никто не мешает. И даже люди, с которыми я разговариваю, – у них уже нет чувства страха. Они мне доверяют.
- Не кажется ли вам, что критически писать о событиях в России вам легче, потому что вы живете в Беларуси?
- Дело в том, что то, чем я уже почти 40 лет занималась, - я писала историю утопии, вот этой красной утопии, красной империи, которая властвовала почти 100 лет. Я ездила не только по России, но и по Украине и Казахстану – по всему тому пространству, что недавно было Советским Союзом. Конечно, больше всего по России, потому что в России этот эксперимент дошел до конца.
Если в Беларуси время как бы остановилось, – мы еще живем в условиях смеси социализма и, даже не знаю, императорского такого президентства, - то в России абсолютно чистый эксперимент доведён до конца. Остался красный человек после красной империи. И вот это промежуточное состояние, когда он шарахается то в религию, то готов шарахаться в фашизм, милитаризм. Там легче проследить происходящие процессы. У нас иначе – мы как бы живем все еще в полусоветском времени.
- Как вы думаете, почему так произошло в России после периода, когда создавалось впечатление, что эта страна становится более открытой и демократичной?
- Об этом очень хорошо у Шаламова есть. Шаламов, который просидел 17 лет в лагерях, и лучший, я считаю, писатель ХХ века. Его "Колымские рассказы" - великое произведение. У него есть такая фраза, что лагерный опыт развращает и палача, и жертву. Я думаю, что нельзя выйти из лагеря – того лагеря, в котором мы жили почти 100 лет, – и быть свободными сразу. Свобода - этот не швейцарский шоколад или финская бумага, или "Бентли", которые у нас сейчас по улицам ходят. Свобода – это состояние, навыки жизни, которых у нас абсолютно нет.
Мы были наивные в 90-е годы, когда думали, что вот не будет коммунистов, – и мгновенно будет та новая другая жизнь, и мы будем свободными. Оказалось, что идти к свободе – это путь, долгий путь. Вот этот красный человек, когда вышел из лагеря, оказалось, что у него нет навыков для этой новой жизни. И конечно, он опять отказался от свободы и вернулся в то, что он знал – милитаризм, рабство – все то же самое. У меня последняя книга так и называется – "Время секонд-хенд".
- А можно ли было избежать этого явления?
- История не любит сослагательного наклонения. Всё произошло уже. Но мне кажется, что большую ответственность несёт элита, которая во время коммунизма хорошо сидела на кухне и мечтала. А когда пришлось строить новую жизнь, оказалась совершенно неспособна – не имела ни идей, ни знаний, как это делать, как объяснить народу. И сама не знала путей, по каким и как идти. Рядом с нами есть Польша, есть Прибалтика, которым удалось избежать того, что происходит в Беларуси и России. Видимо, там другая историческая память, другие ментальные навыки. Здесь этого не было.
- Не кажется ли вам, что Запад тоже виноват, что Запад тоже несёт часть ответственности за излишнюю наивность?
- Думаю, что да. Это наш общий энтузиазм, романтизм 90-х, когда мир перестал бояться атомной войны. Я, помню, зашла в Германии в какое-то кафе, а там - пельмени "Горбачев". И когда узнавали, что ты русский – то готовы были тебя чуть не обнимать, целовать. Это был какой-то общий энтузиазм, что вот он – свободный мир.
Да, я думаю, мы были все сначала наивны, а потом все-таки мир боялся России, как он ее боится всю историю – как это огромное пространство. Его нельзя обуздать, его нельзя контролировать, его нельзя понять - и оно само себя не может понять и проконтролировать.
И конечно, стали играть роль какие-то прагматические мотивы – обезопасить себя от России. Не было сделано то, что в свое время надо было сделать: надо было не положить Россию на лопатки, а надо было ей помочь – во время и Горбачева, и во время Ельцина, который наделал много ошибок. Но уже поздно. Теперь нам опять надо новое время – ждать его, потому что свой шанс мы упустили.
- Запад может теперь только ждать – или повлиять на ситуацию?
- Я думаю, что правильное направление сейчас – помогать созданию гражданского общества. Хотя эту опасность, развитие гражданского общества, в России уже почувствовали, и принято много законодательных актов, в которых ограничивают финансовую помощь этим организациям. Но все равно надо пытаться это делать. А самое главное сейчас – не дать России возможности воевать на Украине и дальше развязывать там гражданскую войну. И тут Запад должен вести себя более решительно.
- Не считаете ли вы, что если бы больше людей прочитали ваши книги, тогда все было бы иначе?
- Знаете, во времена коммунизма многие люди попадали в тюрьму за распространение книг Солженицына. За это угрожала уголовная ответственность. И люди получали уголовный срок. Но нам казалось, что чем больше людей прочтут "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына, тем больше будет свободных людей. Но когда пришла свобода и была отменена цензура, вышли миллионными тиражами книга Солженицына, они лежали на книжных развалах, а люди бежали мимо них. Людей захватила сам жизнь – им стало интересно жить.
Пробовать разную вкусную еду, которой раньше не было, одевать какие-то другие одежды, покупать новые стиральные машины, кофемолки. Это было им интересней – не говоря о том, что для этого нужно было зарабатывать деньги. Люди работали на многих работах. В то же время заводы остановились. А книги оказались в стороне. Так что я думаю, что искусству надо быть скромнее.
Мы делаем свое дело, но надеяться на то, что книга может перевернуть мир, я бы не была в этом так уверена. Но с другой стороны, если бы таких книг не было, то наверняка человек был бы еще хуже.
- Когда вы смотрите на происходящее в Сирии, где Россия начала бомбежки, какие у вас соображения по этому поводу? Вы описывали что-то похожее в книге "Цинковые мальчики".
- Ссылаясь на свой небольшой опыт войны, поскольку я была тоже в Афганистане, видела людей Востока, наблюдала, как они живут, как они думают, я могу сказать, что это совершенно другой мир. Нам трудно в нем ориентироваться. Мы до конца так и не поймем, что там происходит. Мне кажется, это рискованное предприятие. Мы это видим по тому, как американцы были в Афганистане, не только русские. И англичане были в Афганистане. И как немного там все преуспели.
Потому что это мир, который живёт по каким-то своим законам, в другом времени. Я думаю, что здесь политика должна быть более искусная, более изощренная. И уж точно я совершенно всегда против того, что ХХI век так и остался временем силы, временем насилия. Что надо не убивать и не бомбить, а надо убивать идеи – спорить на уровне идей. Уже ХХІ век, а мы все равно варвары. Мы проблемы решаем варварским способом, то есть войной.
- Как можно бороться с идеей настолько нигилистской и варварской, как идеи "Исламского государства"?
- Дело в том, что сейчас уже упущено время. Сейчас это уже такая опухоль, которая разрослась, и тут уже не остается ничего другого, как воевать, поскольку они бросили вызов всему миру. Но воевать нужно вместе. А я не политик, но я вижу, что у Европы, Америки и России разные представления о путях борьбы, и трудно разобраться, что там на самом деле происходит.
- Вы считаете, что Запад должен в этом вопросе сотрудничать с Россией?
- Я не настолько владею темой, чтобы ответить на этот вопрос. Единственное, что ясно: нельзя допустить, чтобы события в Сирии развивались дальше. Но в то же время я сомневаюсь в такой фигуре, как Асад, и в том взгляде, как Россия смотрит на эту проблему. А у Америки и Европы – свой взгляд. Затрудняюсь ответить на этот вопрос.
- В ваших книгах много рассказов о жутких страданиях и в то же время - о человечности. Вы часто теряли веру в человечество и в торжество добра?
- Вы знаете, за вот уже 40 лет на этом пути у меня было очень много разных чувств. Не всегда мне казалось, что я способна дойти до конца этот путь. У меня были моменты, когда человек мне казался великолепным, прекрасным – особенно в первых книгах о советских женщинах, которые были на войне. Были моменты, когда человек мне казался зверем и страшным, а человеческая природа – тёмной, звероподобной такой.
Было очень много разных чувств, но я всегда себе говорила, что я не собираю коллекцию ужасов, это не моя цель. Моя цель – собрать коллекцию человеческого духа. Потому что нам всем – всегда, а особенно сегодня, - нужно мужество просто для того, чтобы жить. Такое мужество идеализма, я бы назвала его по-русски. Потому что человеку, чтобы сохранить его человеческие качества – божественные, ему нужно быть в каком-то смысле идеалистом. И поэтому цель моих книг – накопление духа, накопление человеческого мужества быть человеком, увеличивать в себе человека, сторожить в себе человека.