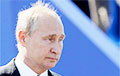Сергей Филатов: Не смог я убедить Березовского во вредности его выбора
1- 8.04.2018, 18:14
- 18,723

Глава Администрации президента Ельцина - о секретах российской политики.
Сергей Филатов благодаря грандиозным переменам конца 1980-х – начала 90-х годов, в которых он принимал самое непосредственное участие, сделал такую крутую политическую карьеру, какую только и можно сделать в революционные времена. Инженер-электромеханик по образованию, в 1990 году он стал народным депутатом, в августе 1991 года руководил депутатским штабом обороны Белого дома, вскоре после этого назначен был первым заместителем Председателя Верховного Совета РСФСР, а в 1993-м возглавил администрацию президента Ельцина, пишет «Радио Свобода».
Должность исключительно важная, для серого кардинала по нынешним временам, но Филатов серым кардиналом не был – для этого он слишком порядочный и интеллигентный человек. Он просто честно пытался распутать нераспутываемые клубки политических противоречий, пришедшихся на его долю: противостояние президента и Верховного Совета, окончившееся кровавым конфликтом в октябре 1993 года, первая чеченская война…
При всех этих тяжелых коллизиях отличие той эпохи от нынешней было в том, что в политической элите еще оставались порядочные люди, как Филатов, а не только холуи, коррупционеры и карьеристы, и эти порядочные люди пытались вытянуть страну из болота и хаоса, сохранить ее в семье цивилизованных народов, не дать ей превратиться в маргинала и пугало для остального мира, как это происходит сегодня, да еще под гром кремлевских литавр.
История показала, что эти попытки были тщетны, Россия, сумевшая в 90-е, несмотря ни на что, стать частью, пусть и отстающей, несовершенной, цивилизованного мира, рухнула в последние годы в такую яму изоляции и отверженности, какая и не снилась ни Ленину, ни Сталину, ни Брежневу. Такие люди, как Сергей Александрович Филатов, в российской политике давно не нужны. То, с чем они в нее пришли и что пытались сделать – сменить российскую колею и поставить тяжело груженый российский поезд на рельсы демократии, – сегодня предается осмеянию и охаиванию. Не удалась попытка. И, тем не менее, как сказал поэт: за попытку спасибо).
- Знаете, Сергей Александрович, я хочу начать с такого вот вопроса. Вы ведь в очень непростой период находились на политико-административном Олимпе, я бы так назвал это, потому что 1993 год – тяжелейший: кризис парламентский, пальба на улицах Москвы, 1994 год – чеченская война. И реакция остального мира была очень отрицательная: на октябрь 1993-го она была более противоречивая, а на чеченскую войну однозначная была, очень тяжелая реакция. Могли вы себе представить, что когда-нибудь Россия дойдет до такого состояния, попадет в такую внешнеполитическую изоляцию, что чуть ли не полмира, во всяком случае пол-Европы, вышлет российских дипломатов и, вообще, Россия окажется в почти что во внешнеполитической изоляции?
- Конечно, трудно себе представить это. Хотя я должен сказать, что по воспоминаниям, все периоды, когда готовились выборы в США или в России, как правило, в этот момент очень сильно напрягались наши отношения. И если посмотреть опросы общественного мнения, то именно в эти моменты очень сильно они склонялись в сторону враждебную по отношению друг к другу. Я не знаю, чем это объяснить. Что касается последних дней, то, я думаю, что здесь, скорее всего, все-таки вина руководства России. Потому что здесь немножко другой элемент был, в основе лежал: показать, чтобы с нами считались, показать, что мы еще в авторитете, что мы можем влиять на события. Вот, видимо, исходя из этого, наше руководство… Да, что руководство, это о Путине идет речь, конечно, о нем.
- Конечно, конечно.
- Он решил создать такую систему, при которой считались бы с Россией, и она могла бы под свое крыло брать другие страны. Но нет таких стран.
- Нет таких стран, и то, что мы получаем на выходе – это ситуация, конечно, очень тяжелая. Я опять же вспоминаю: чеченская война, какое было внешнеполитическое давление, реакция, а вместе с тем изнутри России какая шла борьба за то, чтобы приняли в Совет Европы, за то, чтобы наладились отношения, чтобы они не разрывались – в чем, собственно, и состоит задача дипломатии.
- Для меня это было тоже основной задачей, чтобы в этот период времени вступить в Совет Европы.
- Конечно, я помню это очень хорошо.
- Для нас, для нашей страны это очень важно. Для нашей страны очень важно иметь чистый институт, который бы мог точно тебе сказать, в чем твои проблемы и, может быть, даже иногда применить наказание, для того чтобы с помощью этого показать, как надо делать. И не случайно мы получаем колоссальное количество штрафов от Европейского суда по правам человека.
- Чемпионами там уже стали просто-напросто.
- Да, да, и по количеству дел, которые они рассматривают, и по количеству штрафов, которые присуждаются. И надо сказать, что меня удивляет, что внутри нашей страны находятся люди, которые пытаются переиграть то, о чем договаривались с тем же Советом Европы. Я имею в виду Конституционный суд, который, вообще говоря, толкование Конституции решил изменить.
- Да, да, да.
- Как они считают или, вернее, председатель КС Зорькин считает, Конституция не должна быть статической, она должна следить за жизнью.
- Замечательная концепция.
- Да, и свое содержание корректировать в соответствии с этим.
- Имя прозвучало товарища Зорькина. Это же символическая фигура. Это человек, который в 1993 году сыграл очень большую роль в нагнетании кризиса и в его трагическом разрешении, а ныне, уже много лет как, он снова председатель Конституционного суда.
- Видите ли, очень опасна монополия власти как законодательной, так исполнительной, так и судебной. Монополия нетерпима нигде. И Зорькин, в данном случае, подыграл монополии законодательной власти, у которой была по Конституции полноправная власть, причем такая, которая могла закрыть любой вопрос. Это, конечно, был трагический случай. Когда Конституцию переделывали, может быть, здесь и моя есть вина, полномочия законодателей чуть уменьшили. Тем не менее, теперь Зорькин и Конституционный суд подыгрывают монополии исполнительной власти. Нельзя этого делать ни в одной стране, а в нашей тем более.
- Мы начали со злобы дня, а теперь давайте немного впадем в детство. Хотел бы я немного вас расспросить о вашей жизни. Тем более, что, занимаясь вашей биографией, такие нашел колоритные в ней детали: я узнал, что отец ваш был поэтом.
- Да, был.
- И что назвали вас в честь Сергея Есенина.
- Да.
- Хороший был поэт ваш отец? Я знаю, что он даже был делегатом Первого съезда писателей, не так ли?
- Да, его Горький нашел тогда. Мне кажется, в тот период очень важно было найти рабочего поэта. Он в это время работал на заводе "Серп и молот" и писал стихи. И его взяли на Первый съезд. Он выступал на Первом съезде.
- Даже выступал?!
- Да, это был единственный съезд, который он посетил. Относительно поэзии, что я могу сказать?! Он считал, что во всем виноват Сталин, но выгораживал из этой системы Ленина. И когда он написал первую поэму о Ленине и понес ее в редакцию, ему сказали: "Нет! Мы не можем взять у вас поэму о Ленине, где здесь Сталин? Как вы мыслите себе Сталина без Ленина или Ленина без Сталина?! Идите и дописывайте еще одну главу". И он дописал главу – "От заставы Ильича сына к Сталину несу (или к Ленину несу)", что-то в этом духе.
- Но ведь эту концепция, мы помним, очень долго держалась, до горбачевских времен включительно, что Сталин – это Сталин, а Ленин это совсем другое, Сталин его исказил.
- Я помню, наши споры, наши разговоры. Правда, он их дома старался не вести. Он брал меня под руку и говорил: "Пойдем, погуляем". Мы гуляли и во время гуляния все это обсуждали. У него была двойственная жизнь, совершенно очевидно. Я несколько лет спустя только понял, почему он ложился спать поздно и засыпал где-то в четыре-пять часов утра. Потому что в это время шли аресты. Он ждал своего часа, что могут прийти, могут взять. У него было очень много анекдотов, было очень много четверостиший, частушек всевозможных, которые он распространял довольно широко. Поэтому ему было чего бояться, конечно. Тем не менее, он считался рабочим поэтом. Его очень любили люди. Он очень хорошо умел выступать. Многие писатели, когда он появлялся на сцене, говорили: "Саша, ради бога, выступай последним, потому что после тебя невозможно говорить". (Смех в студии).
- Замечательно! А вы сами стихи писали?
- Нет.
- А кого из поэтов любите?
- Из современных никого. А так, конечно… Вот для меня открылись имен, к сожалению, поздно открылись, потому что я не увлекался поэзией, я увлекался техникой, наукой. Конечно, очень любил Евтушенко. Вознесенского Андрея очень любил, Римму Казакову очень любил, Рождественского любил. Это те "шестидесятники", которые нам раскрыли глаза на поэзию по-настоящему.
- Конечно. И ведь у мамы очень интересная судьба. Мама из тех армян, которые пережили и выжили, слава богу, в этой резне страшной, в геноциде армянском.
- Мама из тифлисских армян. Она попала под погром, и в 1915 году они бежали в Персию всей семьей. И оттуда с мамой и своей сестрой они вернулись уже в Москву.
- Ну, а теперь давайте обратимся к той политике, активным участником которой вы стали практически с конца 80-х годов, то есть когда и началась политическая жизнь в стране.
- Да, она началась с публицистики.
- Конечно!
- Такая была изумительная публицистика! Я думаю, что если бы мы не ослабили ее, если бы она была до сих пор, то люди очень многое понимали бы из того, что происходит сейчас.
- Это уж точно!
- Потому что у нас информации нет, у нас одна пропаганда, и нет публицистики, нет хороших книг.
- Да, да. И тогда представить себе, что пройдет буквально два десятка лет, и люди опять будут ходить с портретами Сталина, невозможно было! Когда мы читали в том же "Огоньке", в "Московских новостях" о том, что происходило в стране в те годы: кто-то знал, кто-то не знал, но все равно открывались новые, совершенно чудовищные факты истории. И представить себе, что этот культ вернется опять!..
- Я вообще не могу себе представить, чтобы нашлись люди, которые это в душе могли простить.
- Я тоже не могу, на самом деле. Нужно быть манкуртами какими-то. А вот о том, что можно представить, а что нет…Глядя из сегодняшней заорганизованности власти, абсолютного единоначалия, тот период, 90-е годы, кажется едва ли не хаосом: сперва противостояние российской и федеральной власти, Ельцина и Горбачева; потом, когда кончился Советский Союз, начался очень скоро период противостояния власти исполнительной и законодательной, Верховного Совета и президента Ельцина, в команде которого вы играли важную роль. Как вы думаете, что хуже: вот тот хаос или нынешнее спокойствие политической жизни, который покойный Борис Ефимович Немцов сравнивал с кладбищенским покоем?
- Во-первых, любой порядок постепенно приходит из хаоса. Поэтому мы хаос никак не могли перескочить, потом что, вообще говоря, мы не были готовы к тому, чтобы сразу перепрыгнуть в порядок: у нас не было законодательства, у нас не было подготовленных кадров, у нас не было у людей того менталитета, который требуется. Но я видел, что Борис Николаевич понимал: если мы будем только дискуссией заниматься, то мы погубим вообще все. А так была надежда, что мы сделаем главное. И главное, вообще говоря, мы сделали, мы ввели элементы рыночной экономики. Другое дело, что ее деформировали в последующем. Ее начали подстраивать под государственную систему. Но основные элементы все-таки есть, и они работают.
Что касается политической системы. Конечно, мы это тоже понимали, не знали, как это сделать, но понимали. Когда на Съезде народных депутатов, который Горбачев придумал, 1060 депутатов, и председательствующий обращается в зал и говорит: "Нажмите кнопку, кто хочет выступить". И вдруг высвечивается 765 фамилий. Ну, что делать?! Как 765 людям предоставить слово?! Это больше года уйдет. И тогда мы начали понимать, что надо создавать какие-то депутатские группы, депутатские фракции. Откуда пошла многопартийная система-то.
- Но, с другой стороны, замечательно, когда 765 человек, и им есть что сказать, а не то, что сегодня: "Парламент – не место для дискуссий!".
- Это ужас! Когда я услышал эти слова, мне казалось, что депутаты должны были взорваться!
- Ну, конечно!
- Кто-нибудь бы так сказал на Съезде народных депутатов!
- Я представляю себе реакцию.
- Да. Это кошмар какой-то. А когда строится вертикаль, и строится авторитарный режим, то прежде всего подбираются люди, которые будут проводить твою линию. Ведь Совет Федерации по Конституции не предназначен для того, что он сейчас делает. Мы же ушли от Совета национальностей для того, чтобы были региональные депутаты в Совете Федерации, которые защищали бы интересы регионов. Это была главная их задача. И в этом плане они должны противостоять и президенту с его указами, и должны противостоять Госдуме, которая делает законы. Чтобы он говорил: "Нам эти законы не нужны, нашим регионам. Нам нужны другие законы". И согласительная комиссия постепенно приходит к компромиссу…
- То есть здоровая система балансирования интересов.
- Абсолютно, да! Это было разделение властей, считая еще отдельной, свободной, судебную систему. И вдруг мы слышим… Я впервые это услышал от Чаплина, а потом с этим выступил патриарх Кирилл, который сказал, что "разделение властей – это грех".
- Бог ты мой!
- Да, в Санкт-Петербурге на форуме. Я после этого выступил со статьей и привел ему слова патриарха Алексия Второго. Это был, конечно, умница огромная, который не противопоставлял себя тому, что написано в Конституции. Эти вещи надо коллективно поддерживать.
- Ну, конечно. Но вместе с тем, Сергей Александрович, тоже будем самокритичны и вспомним опять события октября 1993 года и все эти конституционные изменения… Оттуда идет сосредоточение власти в президентских руках, такое обесточивание, обессиливание парламента, который тогда еще назывался Верховным Советом, не так ли? И я знаю, в частности, что вы были противником того самого, печально знаменитого указа 1400.
- Это правильно все. Но, видите, это еще зависит от личности. Потому что когда у нас не обустроено все законодательно, не обустроено все кадровыми процессами и процедурами, то здесь очень много, конечно, зависит от личности. И что касается, например, Бориса Николаевича, то он всегда очень внимательно смотрел за тем… Ему же многие говорили: "Стукни по столу и скажи, что власть у меня, и я буду делать, как хочу…". Он же этого не сделал. Он же от этого воздерживался, понимая, что постепенно это все должно прийти в нормальный вид. И я думаю, если бы не его болезнь, наверное, так бы все и произошло. Его болезнь очень сильно помешала этим процессам. Но следующий руководитель, который пришел, год – мы видим, что все нормально, поддерживает систему, два – нормально поддерживается, а потом на каком-то этапе произошел слом. И когда он сказал, что ему удобнее руководить, если будет вертикаль… Да, действительно, удобнее, ничего не могу сказать.
- Слов нет, конечно.
- Много сотен лет царям тоже было удобно ставить своих ставленников в губернии.
- Только кончилось все плохо.
- Да, плохо кончилось. Поэтому здесь очень сильно зависит от того человека, который во главе власти находится. И если ему Конституция доверила и вверила в руки координацию работ всех структур власти, то это не значит, что он должен руководить всеми этими структурами. Я же понимаю, что под ковром делается: под ковром наверняка идут телефонные разговоры и с Верховным судом, идет телефонный разговор и с Конституционным судом, и всевозможные встречи.
- Я хочу вас спросить о выборах 1996 года. Вот есть такое мнение, что…
- …победил Зюганов.
-Нет, сослагательное наклонение тут будет. …Что было бы для страны, для ее будущего плодотворнее, если бы победил Зюганов и, как это было в восточноевропейских странах, где маятник качался от либералов к коммунистам и неокоммунистам, а потом обратно. А победа Бориса Николаевича в 1996 году, достигнутая в результате большой административной накачки, весь административный ресурс был применен, так вот, победа Бориса Николаевича как бы затормозила правильное движение исторического маятника, и потом все уже пошло кувырком.
- Может быть, частично вы и правы здесь. Но для себя я решил, что главным, конечно, злом было то, что была болезнь Бориса Николаевича, это первое. И второе – большим злом была его ошибка, что он повязался с олигархами.
- Он же оказался в заложниках у них.
- Да.
- Деньги-то на выборы дали они.
- Да. И не просто он стал заложником, заложником оказались все те, кто его окружал, кто фактически исполнял власть. Потому что я помню, как они бегали из кабинета в кабинет со своими кандидатурами на правительственные посты. И это была, наверное, большая ошибка. Что касается Зюганова. Мне трудно в сослагательном наклонении говорить, что мы бы пошли другим путем. Не знаю. Может быть. Но до сегодняшнего дня я полон недоверия ко всей той номенклатуре, тем большевикам, потому что у них скопилось огромное зло. Я это вижу по писательскому миру.
- Жажда реванша, конечно, большая.
- Во-первых, жажда реванша. Во-вторых, вот эта ненависть к людям. Литература у нас сейчас делится на либералов и патриотов. И доверить этим людям власть, мне казалось, что это было бы…
- …опасным экспериментом.
- Очень опасным экспериментом. Потому что самый тяжелый период жизни людей был, когда обнищание произошло. Но без этого мы никогда бы не вошли в рынок.
- Вы считаете, что альтернативы таким жестким и шоковым реформам Гайдара не было в виде того же плана Явлинского?
- Явлинский отказался от своего плана.
- Потому что ему не дали всех полномочий для осуществления.
- Ему все полномочия дали. Но когда он вышел на сессию Верховного Совета, был шок для нас для всех. Мы-то все были готовы уже: ну, наконец-то, развязывают нам руки. Ему не дали полномочий, потому что был еще Союз. И вести на уровне России все реформы без Союза, без налоговой системы, без финансирования, которое шло фактически еще оттуда, было, конечно, тяжело. Я его понимаю. Но когда мы остались одни, когда после 1991 года мы не знали, кого поставить во главе правительства даже… И перед ним открывалась дорога. Но, мне кажется, что он все-таки где-то здесь испугался. Для меня, может быть, было бы и лучшим, что был бы Явлинский с готовым каким-то планом. Потому что Егор пришел… Он, конечно, умница, он очень талантлив, организатор прекрасный, но он не был готов к этим реформам.
- Вы человек очень обстоятельный. И в своих мемуарах, и в своих интервью вы очень подробно и обстоятельно вашу политическую биографию комментируете. Но вот ваша отставка 1996 года как-то вне ваших комментариев. Почему вы ушли в отставку? Почему вы после этого вообще из политики ушли? Я задаю этот вопрос, потому что мне кажется, что эта отставка была такой очень символической, знаковой. Как бы вместе с вами из администрации, из высшего эшелона политики ушел какой-то дух интеллигентности, дух демократов первой волны, и началась какая-то совершенно другая политическая эпоха – эпоха политических манипуляторов, я бы так назвал.
- Мне кажется, это понятно, почему я ушел. Потому что я тогда же выступил открыто против того, чтобы держать какую-то связь с олигархами. И когда Борис Николаевич с ними встречался в Кремле, было совершенно понятно, что демократы здесь не нужны. Олигархи считали, что демократы только вредят всему этому делу, и все можно сделать без них, только расставив своих людей.
- Как говорил Березовский: "Никакую кампанию не надо покупать, надо просто расставить своих менеджеров".
- Да, да, да. Они же, когда между собой поделили основную ценность нашу, то стало понятно, что страной начнут управлять не демократы, не какая-то рыночная идеология: все будет по-другому. Я думаю, что, скорее всего, в разговоре, наверное, это когда-нибудь вскроется, перед Борисом Николаевичем поставили задачу. Ему сказали: "Борис Николаевич, вам надо перед выборами убрать всех либералов". Если помните, первым оказался я, потом был Чубайс, потом был Попцов, потом был Козырев и так далее. Но, когда я уже ушел, то для меня встал вопрос – возраст у меня пенсионный только-только наступил: все-таки найти себе какую-то другую стезю. И я пошел по новому пути.
- Я понял вас.
- Я ушел тихо, спокойно. Мы, правда, с Александром Николаевичем попытались организовать партию.
- Яковлевым.
- Яковлевым, да. Но люди из Администрации президента, управделами президента Бородин, все сделали для того, чтобы это не состоялось и не получилось. И тогда я стал заниматься сначала Конгрессом интеллигенции, потому что мне всегда казалось, что очень важно иметь открытый диалог с властью. И мы три съезда провели в Москве, в Санкт-Петербурге и в Уфе. Надо сказать, что был хороший разговор, кстати, в нем участвовали и члены правительства. Но когда пришел Путин, я понял, что никакой дискуссии не нужно. (Смех в студии)
- И никакого конгресса, и никакой интеллигенции тоже не нужно.
- Да. И я тогда спокойно ушел и стал заниматься молодой литературой России.
- У вас после вашей отставки сохранились отношения с Борисом Николаевичем?
- У меня был анекдотичный случай. Борис Николаевич болел, а я такой человек – не люблю навязываться. Тем не менее, я как-то в огороде копался, и вдруг звонок раздается: "Сергей Александрович, а вы где?" Я говорю: "На даче". "Как на даче?! Вас Борис Николаевич ждет". Я говорю: "Первый раз слышу". "Ну, как же?! Он ждет. Через пятнадцать минут у вас встреча". Я говорю: "Нет, я за пятнадцать минут не успею отсюда приехать. Вы меня извините и извинитесь перед Борисом Николаевичем тоже". Положили трубку. Забыли, видимо, меня оповестить вовремя. Борис Николаевич очень не любил такие вещи. Он был сам чрезвычайно пунктуальным, до такой степени, что просто иногда дрожь берет. Сидишь у него в приемной, ты пораньше пришел: в 12 часов у тебя встреча с ним. Вот пока стрелочка не встанет на 12, звонка нет. Стрелочка встала на 12 – звонок: "Сергей Александрович, проходите".
- Такой стиль был определенный.
- Это стиль его был, да.
- Опять же прямая противоположность…
- Абсолютная! Более того, ему еще подыгрывал Володя Шевченко.
- Шеф его протокола, напомним.
- Да. Мы как-то сидели у Миттерана на переговорах: наша делегация и делегация Миттерана. И вдруг влетает Шевченко и кивком головы показывает Борису Николаевичу: время. Тот берет часы (а между ними часы стоят обязательно) и говорит Миттерану: "Время, время". (Смех в студии). Мы все умерли от смеха.
- После его отставки вы с ним общались?
- Да, мы встречались, по-моему, два раза: один раз я ему книгу подарил к десятилетию Съезда народных депутатов, и второй раз мы встречались, но тут мы поговорили хорошо.
- А о чем, если это не государственная тайна?
- Нет, не секрет.
- Все же он семь лет после своей отставки хранил молчание, хотя он наблюдал, что…
- Нет, он не хранил молчание. Мы с ним на эту тему…
- В частных разговорах он не хранил молчание?
- Нет, нет. Мы с ним на эту тему не говорили, потому что он был очень больной, когда мы с ним встречались. Но я точно знаю, когда он встречался с мэрами городов на Кавказе, когда встречался с губернаторами, он очень переживал и открыто об этом говорил, как меняется ситуация в стране, особенно со СМИ. Это он очень переживал.
- Как вы объясните, что он никогда публично об этом не высказался? Это были какие-то обязательства? Это было какое-то его понимание этики?
- Это его понимание этики и не только его.
- А теперь скажите мне такую вещь. А у вас были иллюзии по поводу Путина? Я думаю, что их не было, потому что я из вашего интервью, правда, уже 2011 года, запомнил такую фразу: "в корню у него гэбэшное начало".
- Когда были выборы, то я сразу выступил против Путина. У меня была своя кандидатура. И я готовил, в общем-то, людей, деньги.
- Кто, если не секрет?
- Степашин Сережа. Мне казалось, что это была лучшая кандидатура. И я поехал к Березовскому. Мы с ним минут сорок разговаривали на эту тему. Я ему доказывал всю вредность их кандидата на эту должность и говорил, что, конечно, надо выбирать другого и сказал, что Степашин. Он мне в ответ на это охарактеризовал всех: и Черномырдина, что он не годится никуда, Степашин слаб, этот такой, этот сякой. В общем, самый лучший – это Путин. Мы его будем отстаивать, будем его продвигать и так далее и так далее. Наш разговор кончился ничем. Я уехал со своим мнением. А через некоторое время вдруг Степашин отказался идти. Я потом его спросил – почему. Он говорит: "Был разговор. Мне передали от Путина, чтобы я перестал суетиться, что для меня будет хорошая должность".
- И это обещание было выдержано.
- Да, да. Он согласился.
- Внутри всего этого клубка интриг стала понятна еще одна. Многие ведь из ваших товарищей, единомышленников, демократов ушли после прихода Путина в оппозицию – и Рыжов Юрий Алексеевич, и Афанасьев, и Немцов, и Сергей Адамович Ковалев. Вы себя считаете в оппозиции?
- Я не люблю это слово, потому что мы не были в оппозиции. Мы остались с тем, что есть. Оппозиция – это борющийся элемент. Наша оппозиция не боролась. Во-первых, меня всегда (я думаю, что и Бориса Николаевича) очень сильно угнетало то, что он не мог идти от имени демократов на выборы, потому что нас было очень мало, я думаю, где-то процентов пятнадцать, наверное. От такого количества не идут лидером. И, к сожалению, сам Борис Николаевич тоже виноват в том, что вокруг него все-таки не образовалось вот это кольцо единомышленников.
- Потому что людей он любил менять, как перчатки.
- Да, не без помощи Коржакова и Барсукова. Потому что они ему все время внушали одну мысль: "Борис Николаевич, какие тут демократы?! Вы президент всей страны. Вы царь".
- Когда появилось это, когда он стал говорить о себе в третьем лица, когда появилось "царь Борис"? Это совершенно не соответствовало нашим иллюзиям.
- Поэтому я к нему обратился и сказал: "Борис Николаевич, нам надо делать партию. Вот Александр Николаевич предлагает свои услуги". Он говорит: "Давайте". Но не было в этой реакции той мощи, с которой он обычно делал серьезные шаги. Он почему-то считал, что можно обойтись и тем, что он президент всех и вся. Но мы тогда уходим от того, что мы хотели построить...
- Ну, да.
- Ведь у Путина те же проблемы. Он начал себе создавать "Единую Россию", а потом понял, что от "Единой России" надо дистанцироваться. Он создал "Народный фронт", но понял, что от "Народного фронта" нельзя идти, потому что тоже опасно. И тогда он становится лидером. Но какой лидер? Это не лидер. Лидер – это немножко другое все-таки. Здесь есть проблема. Когда мы и с Рыжовым, и все встречались, уже начали считать, какие сделал Борис Николаевич ошибки. Значит, мы раскололись внутри себя. И у нас было какое-то недоверие к тому, что мы можем что-то сделать.
- Да, неверие в собственные силы.
- Да, и потом я был большим противником тем, чем занимается оппозиция. Они все время ругали то, что было, то, что прошло. Ну, хватит ругать. Надо сказать, что мы хотим сделать, что мы можем сделать. Этого-то нет до сих пор. Навальный сейчас говорит о криминале, о жульничестве и прочих вещах, но это не решение проблемы. Это одна из проблем, которые надо решать.
- Как вы думаете, Сергей Александрович, а поднимется ли когда-нибудь вновь в России вот такое мощное общественно-политическое демократическое движение, как это произошло в конце 80-х, которое сыграло колоссальную роль в переменах?
- Я думаю – да. Вот уже по этим выборам видно, что какой-то сдвиг произошел.
- Вы упомянули Конгресс интеллигенции, который вы проводили. И, вообще, вы в те годы, когда работали и в Верховном Совете, и в Администрации президента, считались таким связующим звеном, связником между интеллигенцией и властью.
- Это Борис Николаевич заметил очень быстро.
- Да, да, да. А вот скажите, а вам не кажется, что сегодня интеллигенция оказалась на обочине в гораздо большей степени, чем она была в советское время? Ну, кто-то более доволен жизнью, кто-то менее, но она сама себя чувствует маргинализированной, что называется, прослойкой. Нет у вас такого ощущения?
- Есть, конечно, ощущение такое. Ну, во-первых, начнем с того, что сделали с Академией наук. Академия наук и наши академики фактически все подвластны чиновникам.
- Чего не было ни в советское время.
- Никогда не было! Вообще, поставить интеллигенцию в зависимость от чиновников, чтобы те давали ей копейку, - это губительно!
- Конечно.
- То же самое со всеми остальными. Возьмите театры, возьмите кино. Сейчас все так построено, что там есть распорядители финансами, отдельный человек, который подчиняется власти, и есть тот самый художественный руководитель, который должен с протянутой рукой, на всякий случай оглядываться. Первое – это ошеломляющий удар, который был нанесен по ним. Ну, скажите Любимову: "Пожалуйста, дорогой мой, ты не будешь распоряжаться. И то, что ты будешь делать, в театре ставить, еще нужно посмотреть".
- Мы знаем, как бы он ответил! Мы можем себе представить последствия такого урагана, который бы поднялся.
- Вот это первый удар, который был нанесен. И мне кажется, он смертельный, конечно. Ко мне очень многие подходили: "Сергей Александрович, ну, когда-нибудь мы начнем? Сделайте трибуну для нашего голоса". Я сделал трибуну, но я видел, как они постепенно, постепенно все уходят. Вот смотрите, очень показательно было. У нас в Совете Конгресса интеллигенции были выдающиеся люди: ректор МГУ, директор Эрмитажа, сам Александр Николаевич Яковлев, академик Велихов, очень много было выдающихся ребят. Первое, что начала делать наша власть – начала их отбирать. Велихова поставили секретарем Общественной палаты, других распределили по различным комиссиям по культуре и прочим вещам. Постепенно всех взяли. И как им теперь выступать там? Это одна из причин, которая заставила меня закрыть это дело.
- И тем не менее, вы не теряете оптимизма и верите в то, что все-таки общественная жизнь и политическая жизнь, которой сейчас в стране, по сути дела, нет, что она возродится?
- Я всегда в нашу страну верил. Я всегда в нее верил. Вот сейчас мы читаем шестнадцать писателей, которые переписывались и общались со Сталиным. Я, конечно, считаю их всех несчастными, безусловно, людьми, потому что он выбрал какую-то группу писателей, с которыми общался, через которых пытался влиять на литературу, на ее развитие. Нашел Горького, которого я очень люблю, что бы там не говорили.
- Горький очень большой писатель, конечно!
- И писатель, и организатор большой. Он делал это все с переживаниями. И когда не нужен стал, выбросили его, как многих выбрасывают. Но, тем не менее, они жили двойной жизнью. Я по своему отцу это вижу, как он жил и переживал, и сказать ничего не может, и пожаловаться никому не может. Вот я сейчас читаю фадеевские некоторые письма и вижу, как он видел это все.
Поэтому как бы не нажимали, как бы не зажимали, все равно это откроется все.
- Будем надеяться.
- Ремесленники. Вот он сказал – ремесленники. Я от Фадеева не ожидал, что бы он мог сказать такие слова.
- Он это на себе знал. Ему же большой талант был дан. Вспомним, как "Разгром" написан! Великолепно написан!
- Папа мой любил всякие шутки и написал четверостишие такое:
"Скажи мне Фадеев, любитель ЦК,
Что сбудется завтра со мною,
Быть может, меня вознесет в облака,
А может, сравняет с землею".